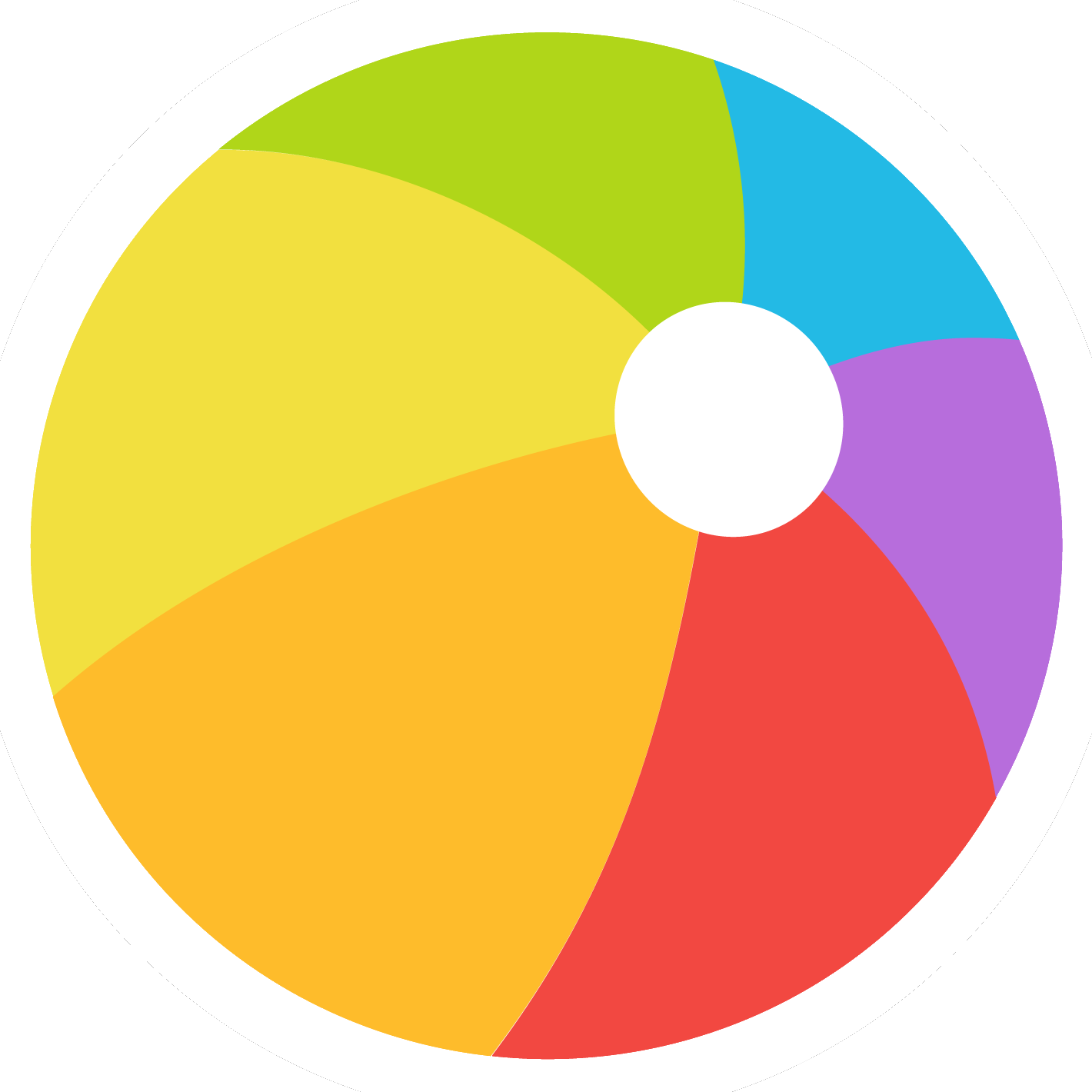Григорьян – семидесятник; я думаю, что это традиция Чухонцева. Это попытка гармонизировать русскую жизнь с ее приземленность, унижением, дисгармонией. Не случайно его поздняя книга стихов называлась «Терпкое благо». Это терпкая поэзия такая. Чухонцев мне представляется поэтом № 1 в 70-е в своем поколении, рядом с Кушнером. Просто Чухонцев мне представляется более радикальным, более прямолинейным, более масштабным, потому что проблемы, его волнующие, это проблемы глобальные и российские, политические проблемы, историософские.
Мне кажется, что Чухонцев создал целую школу гармонического (или пытающегося быть гармоническим, пытающегося быть традиционным) письма, которая выражает при этом все мучительное напряжение между российским идеалом и российским бытом.
Я думаю, самое лучшее стихотворение Чухонцева, помимо совершенно гениального и знаменитого «Зычный гудок, ветер в лицо…» («Родина! Свет тусклых полей, омут речной да излучина…») – гениальное стихотворение. Я, пожалуй, ничего более гармоничного в русской поэзии 70-х годов не знаю. Даже у Самойлова нет ничего подобного, потому что здесь форма и содержание находятся в невероятном балансе, в невероятной гармонии. Меня просто преследует это стихотворение своей навязчивостью, особенно если учесть, что у нас тут весна.
Но для меня главное, лучшее стихотворение Чухонцева – это «Послевоенная баллада».
– Привезли листовое железо.
– Кто привёз? – Да какой-то мужик.
– Кто такой? – А спроси живореза.
– Сколько хочет? – Да бабу на штык.
– И хорош? – Хром на оба протеза.
А язык пулемёт. Фронтовик.
– Да пошёл!..
– Привезли рубероид.
Изразцы привезли и горбыль.
– А не много? – Да щели прикроет.
Ты вдова, говорит, я бобыль…
Все помнят – это гениальное стихотворение. И особенно финал его невыносимо пронзителен:
Ах, не ты ли – какими судьбами –
счастье русское? Как бы не так!
Сапоги оторвало с ногами.
Одиночество свищет в кулак.
И тоска моя рыщет ночами,
как собака, и воет во мрак.
Ничего лучше этого не написано, ничего горше тоже. Вот мне кажется, что Григорьян – продолжатель этой традиции. Тем более что они с Чухонцевым почти ровесники, люди очень сходного темперамента, сходного мировоззрения.
Потом Григорьян… Понимаете, без чего его трудно себе представить? Без той среды ростовской, которую он организовал и в которой он хозяйствовал. Я с разных сторон знаю эту среду. Например, мой любимый критик Елена Иваницкая – наверное, самый глубокий сегодня аналитик текущей реальности (а я ее помню еще по диссертации о Грине, по ее работам об этике Серебряном веке, по ее статье о феномене интересного, но она именно аналитик), – так вот, она человек, воспитанный Григорьяном. Кстати, она же и автор лучших воспоминаний о нем, да и чего говорить, мать его дочери.
При этом их взаимное влияние, взаимное воспитание было очень жестким. При этом другая среда, другой уровень был более жестким. Например, Леопольд (я знаю его как Лео) Эпштейн – замечательный поэт, которого я знаю как старшего своего бостонского друга, но когда-то ростовского поэта, а когда-то – еще до того – соученика в «Луче» Гандлевского, Кенжеева и Цветкова.
С другой, с третьей стороны это Наум Ним – мой любимый прозаик, тоже ростовчанин. По происхождению он белорус, но по образу жизни, по литературным своим пристрастиям, по кругу знакомств очень долго ростовчанин. Это человек, который с Григорьяном общался повседневно, и он его наблюдал в быту.
И вот для всех этих трех разных людей (а они друг с другом были едва знакомы) Григорьян был мощным объединяющим центром. Он был для Ростова тем же, чем Чичибабин был для Харькова. Но как мне кажется, все-таки – пусть поклонники Чичибабина (я сам один из них) на это не обижаются, – но лично для меня Григорьян – поэт более строгого отбора, более точного слова, более жесткого выбора, более лаконичный, безусловно. Чичибабину, по-моему, страшно мешает многословие.
Для меня, как бы то ни было, Григорьян – один из самых важных, самых значительных голосов 60-70-х годов; я счастлив, что я успел с ним поговорить, что получал его книги. Я его застал уже очень тяжелобольным, глубоко старым человеком. Тем более что он страдал все время от врожденных болезней, но у него была поразительная жизнестойкость и сила, которой он притягивал к себе, без преувеличения, тысячи людей. Это очень важный для меня критерий. А поэтически – это аскетическая, подневольная, подзапретная школа русской поэзии 70-х годов, где были, между прочим, замечательные явления. Они были и в Петербурге, и в Москве, и в глубокой и богатой русской провинции.