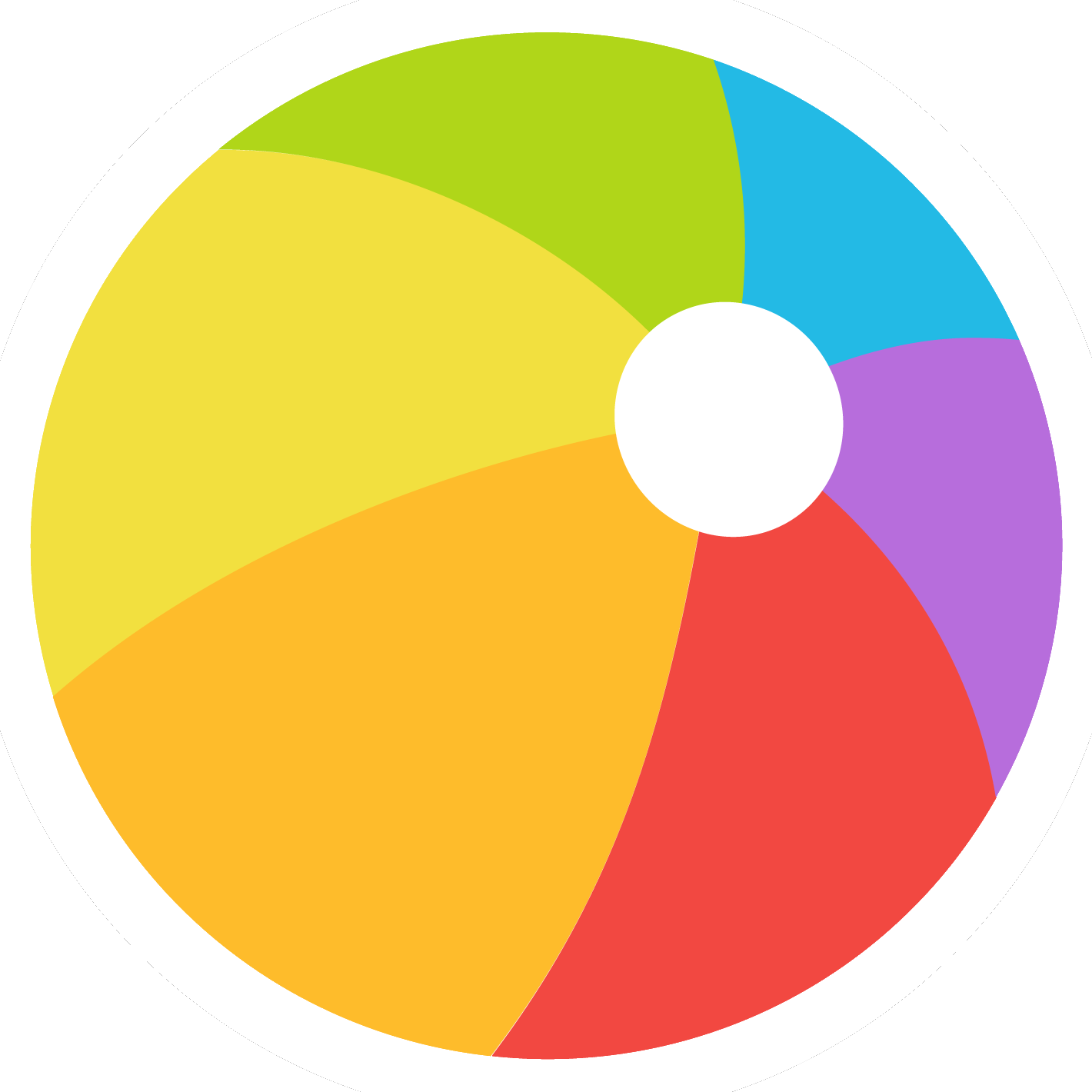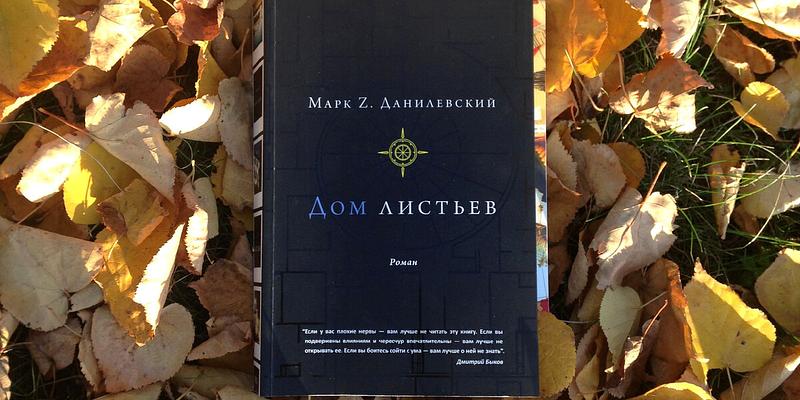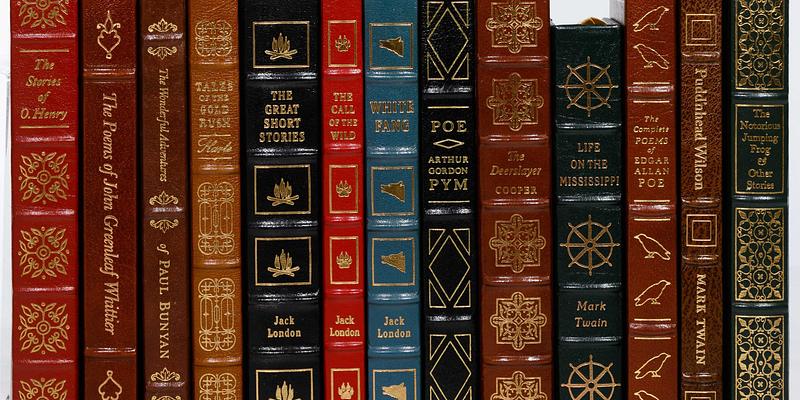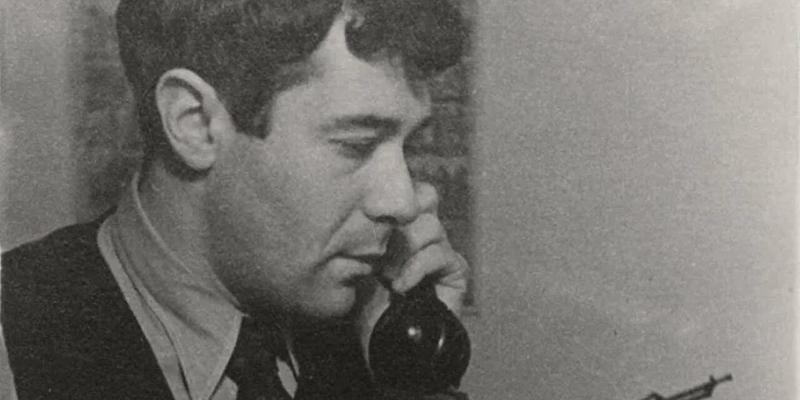Вот это очень важный вопрос. Дело в том, что Третьего завета (после Завета закона и Завета милосердия приходит Завет культуры) ожидали в начале века очень многие. И убедительнее другие это обосновывал Мережковский. Стругацкие писали, что на смену Человеку разумному придет Человек воспитанный. А собственно культура и занимается воспитанием человека. Да, я думаю, что Третий завет — это завет культуры.
Какое влияние окажет? Ну, прежде всего это будет такой настоящий спурт, настоящий безумный рост гуманитарных наук, влияние гуманитарных наук на мир. Технократия пойдет своим путем, и от техники мы никуда не денемся. Мне близка довольно мысль Татьяны Друбич о том, что, как вот век девятнадцатый был веком физики, двадцатый — веком технологий и веком, может быть, химии, отчасти так, а двадцать первый станет веком биологии. У меня есть сильное подозрение, что век биологии не состоится без некой новой этики, без новых этических концепций.
Сегодняшний тотальный раздрай, которого нельзя не видеть… Посмотрите, как ссорятся люди. Посмотрите, какие безумные кипят страсти, сколько гадости, гнусности и забвения простейших правил. Все это неизбежно приведет к поискам новой этики. И эта этика будет переформулирована так или иначе. Вопрос — какой ценой? Произойдет ли для этого всемирная катастрофа, или мы успеем одуматься за шаг до нее? Раньше такие катастрофы разряжали ситуацию, очищали воздух, но ни одной проблемы не решали, а просто временно загоняли её вглубь. Сейчас ядерная катастрофа невозможна. Человечество машет кулаками, но до конфликта не доходит.
Значит, нужны будут какие-то другие способы разрядки этого напряжения. Отчасти оно разряжается в Фейсбуке (почему Фейсбук и превращается в клоаку), а в какой-то степени… Ну, вообще в соцсетях разряжается. А в какой-то степени, возможно, мы стоим на пороге действительно такого ядерного взрыва в этические сфере, потому что количество зла, раздражения, накопленного согражданами, особенно у нас (потому что Россия, как всегда, нагляднее), оно просто зашкаливает. И с этим придется как-то бороться.
Меня, кстати, спрашивают об участившихся ссорах между фантастами, приводят в пример конкретную ситуацию. Ну, их много сейчас, этих ситуаций. Я вообще своих друзей не обсуждаю — тех друзей, которые после всех идейных разногласий сохранились, потому что «Платон мне истина». Но вообще… Вот я сейчас такую печальную вещь скажу и неожиданную.
В этих размежеваниях ничего плохого нет. Мне вообще кажется не очень правильным любой ценой сохранить дружбу. Мне понятна позиция Курта Вана, который говорит: «Вот наконец-то мы разругаемся» (это фединские «Города и годы»). Мне понятна позиция Базарова, который говорит Аркадию: «Давай наконец поссоримся». Это вообще довольно продуктивно — иногда с кем-нибудь не разговаривать. Культура — это вещь такая, которая движется конфликтом. Вот не надо думать, что в культуре все друг с другом дружат. Конечно, добрые нравы литературы забывать нельзя. Нельзя писать друг на друга доносы, например. Нельзя распространять сплетни. Нельзя о бывших друзьях распространять то, что ты знал просто в силу приближенности к ним, а теперь вот… Нельзя менять мнение. Если ты до какого-то момент человека называл талантливым, а после этого ты с ним разругался, нельзя называть его бездарным. Хотя, кстати говоря, талант Господь тоже отнимает нередко, если человек забывает о простейших правилах. Но мораль здесь та, что, конечно, нельзя какие-то добрые нравы литературы, как называла Ахматова, нельзя игнорировать.
В остальном полемика в литературе — очень продуктивная вещь. Непродуктивно хамство. И вот все письма, например, с угрозами или хамством приводят к тому, что я немедленно человека включаю в черный список. Что он мне там пишет потом, второе, пятое, десятое письмо — это до меня элементарно не доходит. Хотя я думаю, что много ещё есть таких авторов, которые, абсолютно не зная о своем бане и игноре, продолжают героические строчить с пьяной храбростью и абсолютно уверены, что они не могут от этого отказываться. Но уже поздно, стоит заслон.
От хамства надо как-то стараться себя оберегать. Но в принципе литературная полемика — нормальная вещь. И мне даже нравится, что в литературе сегодня несколько оживилось это, что мы перестали дружить. Вот для Михаила Успенского, раскол в клане фантастов, всегда очень дружном, был трагедией. Для меня это тоже трагедия, потому что я любил очень посещать «Странника» или Премию АБС, для меня это была любимая среда. Но, в конце концов, это тоже распад общины, тоже диверсификация. И ничего в этом нет дурного. Это усложнение.
А вообще, честно говоря, для меня вообще не очень понятно, зачем люди много общаются. Я понимаю — физики, которые общаются на какие-то научные темы, собирают симпозиумы, обсуждают проблемы. А писателям… Ну, обсудить технические проблемы важно, композицию, какие-то метафорические ходы я могу с очень небольшим числом профессионалов. И с этими профессионалами я не поссорюсь никогда, потому что нас объединяет нечто более важное — ну, скажем так, высокая болезнь. А с большинством коллег мне совершенно не о чем говорить. Честно говоря, зачем? И литература — дело такое одинокое. Поклонились при встрече в лучшем случае — и ладно.
Кроме того, я благодарен последним вот этим временам. Как раз когда Генри Резник проводил в «Прямой речи» свой творческий вечер, я там попросил его побыть адвокатом путинского времени: «Представьте себе, что вот происходит процесс над нашим временем. Вы согласитесь быть адвокатом?» Он привел несколько очень убедительных аргументов, а потом спрашивает меня: «А вы бы согласились?» Я говорю: «Да, у меня есть один аргумент: всех стало видно. И это время хорошее в этом смысле». Очень многие люди, которые и так-то, в общем, оставались моими друзьями на честном слове и вызывали у меня эмоции далеко не дружеские, откололись. И, как сказано в одном моем стихотворении: «И не ты моя услада, и не я твой леденец, так что больше нам не надо притворяться наконец». Эта ситуация меня скорее устраивает.